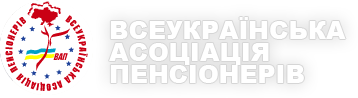Когда мы говорим сами с собой, это подбадривает, помогает контролировать эмоции, строить планы на будущее и поддерживать чувство собственного достоинства.
Феррис Джабр
Несколько месяцев назад, когда я ехал в метро, вдруг с моих губ слетели слова «Нет, нет, об этом не надо беспокоиться». Фраза предназначалась мне самому, я в это время мысленно воспроизводил в уме недавний неловкий разговор. Хотя в одиночестве я и раньше иногда бормотал вслух, это был первый случай, когда такое произошло в публичном месте. Кажется, никто не проявил признаки беспокойства и даже не заметил. Тем не менее я не мог не встревожиться, что настолько оторвался от реальности. Не становлюсь ли я невротиком? Не слишком ли много я говорил сам с собой, одержимый внутренним монологом?
К счастью, оказалось, что почти все разговаривают сами с собой, тихо или громко, большую часть времени. Психологи называют это внутренней речью или внутренним диалогом. Она возникает в детстве, когда ребенок играет. По мере взросления мы все реже говорим с собой вслух, но есть несколько исследований, в которых показано, что большинство подростков и взрослых иногда все-таки разговаривают с собой так, что их слышно. В исследовании, проведенном психологом из Университета Джорджа Мейсона Адамом Винслером (Adam Winsler) и его коллегами, 46 из 48 женщин признались, что время от времени вслух бормочут что-то себе под нос. А молча мы все разговариваем с собой на протяжении всей жизни. Такой тип мышления составляет примерно четверть нашего сознательного опыта.
Дать точное определение внутренней речи сложно, но, по сути, это мышление словами— в отличие от ярких непроизвольных воспоминаний сцен из детства или представлений о том, как будет выглядеть диван около той или иной стены, которые формируются прежде, чем мы подвинем этот предмет интерьера. Вну-тренний диалог можно вести с помощью речи или языка жестов, но он всегда образован словами и представляет собой сознательный опыт. Когда вы встаете утром и думаете: «Как хорошо, что уже пятница», это внутренняя речь. Когда друг усаживает вас и просит дать ему совет, а вы перебираете в уме несколько вариантов ответа, это тоже внутренняя речь.
Десятилетиями ученые изучают детскую внутреннюю речь, но только недавно они обратили серьезное внимание на внутренние диалоги взрослых. По словам Чарлза Фернихоу (Charles Fernyhough), психолога из Даремского университета, сейчас ученым известно, что внутренняя речь используется повсюду. Она нужна нам при решении задач, письме и чтении, для повышения собственной мотивации, когда мы строим планы на будущее и учимся на прошлых ошибках.
Однако в голове некоторых людей звучит голос, который они не считают своим собственным, — эти люди испытывают слуховые галлюцинации. В других случаях, например при аутизме, могут возникать сложности с формированием внутренней речи и это не дает людям возможность запоминать сложные инструкции и решать некоторые задачи. Иногда нашу внутреннюю речь нужно подкорректировать, например если она становится слишком критичной и погружает в черную пучину депрессии. Ученые выяснили, что если внутренняя речь замолкает, ее можно заменить извне. Психотерапевты помогают людям, страдающим от тревожности и депрессии, приглушить, а потом перезаписать слова внутреннего диалога, чтобы снизить психологический ущерб. Хотя внутренние голоса иногда неприятны, нам они необходимы. Некоторые исследователи предполагают, что внутренняя речь соединяет разные фрагменты чувственного опыта в единую мозаику самосознания. Чтобы быть собой, нужно с собой разговаривать.
Первые слова
Первым внутреннюю речь начал серьезно изучать российский психолог Лев Выготский. В 1920 г. он предположил, что ребенок усваивает то, что ему говорят родители, а потом, используя в новой ситуации те же лингвистические конструкции, говорит сам, и это помогает ему сконцентрироваться и успокоиться. Например, играя с кубиками, он может вслух озвучивать по-следовательность действий при строительстве башни, хотя его никто и не слышит. За прошедшие десятилетия ученые убедились, что внутренняя речь важна для освоения языка и помогает детям регулировать свои эмоции. С ее помощью малыши лучше решают задачи. Оказалось, что чем больше они разговаривают сами с собой, тем лучше собирают пазлы и решают логическую задачу, в которой надо расположить цветные шарики по трем стержням в опре-деленной последовательности, выполнив минимальное количество действий.
Выготский также установил, что в отличие от обычной детской речи внутренний диалог ребенка ведется телеграфной речью и очень идиоматичен — наподобие коротких заметок, нацарапанных на полях книги. Сейчас известно, что беззвучная внутренняя речь взрослых — такая же. Поскольку вы уже знаете, что именно имеете в виду, можно не трудиться объяснять все полными предложениями.
На протяжении многих лет ученые придумывали хитрые способы захвата мимо-летных мыслей в голове человека. Например, вначале 1970-х гг. психолог Рассел Херлберт (Russell Hurlburt) из Университета Невады в Лас-Вегасе снабжал добровольных участников эксперимента устройствами, которые издавали звук в случайные моменты времени. Как только люди слышали звуковой сигнал, они должны были прекратить все дела, и записать, о чем сей-час думают. Позже антрополог Эндрю Ирвинг (Andrew Irving) из Манчестерского университета попросил 100 добровольцев носить с собой небольшой микрофон и надиктовывать свои мысли во время прогулки по улицам Нью-Йорка. В результате получилась запись потока сознания.
С помощью этих и похожих исследований обнаружилось, что люди часто используют внутренний диалог для саморегуляции: чтобы направлять внима-ние, смягчать неконтролируемые эмоции и напоминать себе о правилах приличия. Внутренняя речь позволяет поддерживать мотивацию, уверенность и управлять собой во всех жизненных ситуациях— при проведении презентации для коллег, раннем подъеме, чтобы успеть в спортзал или на работу, чтобы решиться пригласить кого- то на первое свидание. Особенно хорошо изучено, как это работает в спорте.
Традиция произносить напутственную речь перед соревнованиями или битвами существует уже много веков, в древнем Риме ланиста (хозяин гладиаторов) использовал ее для подготовки бойцов к битве, современные футбольные тре-неры с ее помощью настраивают свою команду в раздевалке. Спортсмены шепчут себе определенные фразы, чтобы сохранять спокойствие во время игры. Однако только в последнее десятилетие спортивные психологи собрали достаточно доказательств того, что внутренняя речь действительно улучшает спортивные результаты. Подобный внутренний диалог может содержать два типа фраз: мотивационные— состоящие из простых подбадривающих утверждений вроде «у меня получится», «я сделаю этот бросок» и фразы-инструкции с указанием конкретных действий. Первые придают уверенность, повышают настроение и концентрируют энергию и силы для выполнения задачи, вторые улучшают сосредоточенность и точность выполнения. В 2008 г. в Вустерском университете Кристиан Эдвардс (Christian Edwards) с коллегами пригласили в лабораторию 24 игроков команды колледжа по регби и попросили их несколько раз подпрыгнуть вверх как можно выше. При этом 16 человек за 20 секунд перед каждым прыжком использовали либо мотивационную внутреннюю речь («я могу прыгнуть выше»), либо фразу-инструкцию («согнуться и прыгнуть»), а оставшиеся восемь человек ничего не говорили себе мысленно. Спортсмены, использовавшие мотивационную внутреннюю речь, прыгнули выше всех, а те, кто ничего мысленно не произносил, прыгнули ниже всех.
Иногда недовольство собой тоже может мотивировать. Хотя тренеры обычно со-ветуют спортсменам избавляться на поле или корте от всех самоосуждающих мыслей. исследования показали, что легкий упрек помогает многим спортсменам начать играть лучше.
В еще одном исследовании было показано, что полезно произносить подробные инструкции вслух. В 2012 г. спортивный психолог из Фракийского университета им. Демокрита (Греция) Элени Зету (Eleni Zetou) с коллегами попросили 28 подростков, начинающих учиться игре в волейбол, в течение четырех недель один час в неделю выполнять упражнение, мысленно проговаривая: «Подбрасываю мяч, отвожу руку назад за голову, смотрю на мяч и бью по нему». В то же время еще 29 человек тренировались без этих слов. Потом во-лейбольные тренеры по видеозаписям оценивали навыки игроков. После тренировок качество выполнения в обеих группах улучшилось, но те игроки, кто использовал на тренировках внутреннюю речь, получили в среднем 44 балла из 50 возможных, а те, кто ничего мысленно не говорил, — 35. Подробные напоминания о том, как приблизиться к цели или сделать штрафной бросок, по-видимому, особенно полезны начинающим спортсменам, чьи движения из-за недостаточной тренировки еще не стали автоматическими.
Кроме того что внутренняя речь помогает людям в текущий момент времени, она нужна и чтобы учиться на прошлом опыте и строить планы на будущее. Репетируя то, что собираемся сказать, и мысленно повторяя то, что уже было сказано, мы можем выявить бестактную фразу и больше не произносить ее. Рассказывая себе о будущем, мы определяем, чего хотим или не желаем добиться в жизни. Внутренняя речь настолько важна для мысленного путешествия во времени, что если она исчезает, то может исчезнуть и понима-ние понятий «до» и «после».
В 1972 г. клинический психолог Клод Скотт Мосс (Claude Scott Moss) описал свое состояние после перенесенного инсульта, в результате которого он не мог говорить и временно утратил внутреннюю речь. «У меня не было возможности думать о будущем, беспокоиться о нем, строить планы, по крайней мере при помощи слова. Фактически первые четыре-пять недель после попадания в больницу я просто существовал».
Многоголосие в голове
Хотя возможность говорить с самим собой дает большие преимущества, избыток неправильной внутренней речи может иметь неприятные последствия. Навязчивые мысли о болезненных переживаниях — это одновременно и фактор риска, и симптом депрессии. В сознании людей, страдающих от тревожных расстройств, часто фигурируют мысли о неминуемой гибели. Некоторые психиатры на основе содержания внутренней речи оценивают степень тяжести тревожного расстройства и депрессии. В 2007 г. в Темпльском университете психолог Филипп Кендалл (Philip Kendall) с коллегами исследовал 145 детей с генерализованным тревожным расстройством и социофобией; детей спрашивали, насколько часто за последнюю неделю у них возникали мысли о собственной тревожности («Я очень нервничаю») или позитивные мысли («Я победитель»). Кендалл обнаружил, что чем больше тревожные внутренние высказывания преобладают над позитивными, тем более выражено тревожное расстройство у ребенка, а чем сильнее в процессе терапии меняется соотноше-ние этих высказываний, тем значительнее улучшается состояние.
Чарлз Фернихоу говорит: «Люди понимают, что навязчивые мысли играют боль-шую роль в формировании тревожности и депрессии, и лечение может быть на-правлено на изменение тех слов, которые вновь и вновь звучат во внутренней речи. Полезно бывает даже просто поговорить с людьми о том, что такое внутренняя речь и откуда она берется». Возможность дать звучащим в голове мыслям официальное название «внутренняя речь» и понимание, что ее можно поменять, уже оказывают большую поддержку. Психиатры разработали несколько стратегий, помогающих людям поймать себя на навязчивых песси-мистичных или осуждающих мыслях прежде, чем они размножатся. Объединив, например, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию осознанности, можно лучше увидеть свои мысленные привычки— и, возможно, это поможет их поменять. При депрессии стараются превратить внутреннюю речь из негативной в позитивную и заменить фразы типа «нет смысла сегодня вылезать из кровати, ты никому не нужен и работа у тебя убогая» на «такое счастье, что у меня есть семья и друзья, которые меня любят, отличная работа, где коллеги всегда поддержат».
В то время как люди с депрессией и тревожностью должны научиться выключать ненужные фразы у себя в голове, у других людей противоположная проблема: они вообще не могут говорить сами с собой. Поскольку дети приобретают внутреннюю речь, общаясь с взрослыми, у людей с забо-леваниями аутического спектра, которым сложно распознавать социальные сигналы и участвовать в разговоре, могут быть трудности с усвоением разговора и формированием внутренней речи. В частности, детям с аутизмом сложно следовать правилам в задачах типа «Если на карточке красный кружок, то положи ее сюда, если голубой треугольник, то вон туда», особенно когда инструкции нужно проговаривать про себя. Однако в 1999 г. психолог из Кембриджского университета Джеймс Рассел (James Russell) вместе с коллега-ми показал, что дети с аутизмом могут преодолеть эту проблему, если им позволить произносить инструкции вслух. Рассел попросил 19 детей с аутизмом и 19 нормально развивающихся детей в возрасте от пяти до восьми лет говорить «день», если на картинках показана луна, и «ночь», если на картинках солнце. Ответ надо было просто назвать, не надо было ничего писать или сортировать карточки. Дети из обеих групп одинаково хорошо справились с задачей.
В 2007 г. Уинслер с коллегами провели исследование, дополнившее ранее имевшиеся сведения. Уинслер проанализировал видеозаписи 33 человек с аутизмом в возрасте от семи до 18 лет и 28 нормально развивающихся детей и подростков, где они выполняли задание по сортировке карточек и играли на компьютере в игру, в которой надо было получить палочку нужной длины, добавляя и убирая фрагменты. Детям с аутизмом потребовалось больше времени, чтобы успешно выполнить задание, но если они могли говорить вслух сами с собой, то это помогало им гораздо сильнее, чем здоровым детям.
Есть люди, у которых трудности не с формированием или редактированием внутренней речи, а с пониманием, чья она. Вербальные галлюцинации— это голос, который люди слышат у себя в голове, но не считают своим. Раньше это считалось признаком шизофрении, но сейчас известно, что вербальные галлюцинации могут наблюдаться также при биполярном расстройстве, рас-стройстве личности, при временных психозах; кроме того, по данным, опубликованным Фернихоу с коллегами в 2012 г., примерно 15% здоровых людей периодически слышат несуществующие звуки или голоса.
Когда мы мысленно разговариваем сами с собой, область лобной доли мозга, известная как центр Брока, отвечающая за формирование речи, посылает команды на границу теменной и височной доли в зону Вернике, необходимую для понимания речи. В зону Вернике поступает сообщение, что на этот голос не надо реагировать как на чужой. (Похожая обратная связь не дает нам самим себя пощекотать: мозг сообщает, что щекочущее воздействие производим мы сами.) В 2001 г. психиатр Джудит Форд (Judith Ford) из Калифорнийского уни-верситета в Сан-Франциско вместе с коллегами обнаружила, что у людей с вербальными галлюцинациями сигналы, идущие между зонами Брока и Вернике, слабее, чем у людей в среднем. Существуют участки мозга, различающие разные мысленные голоса, например свой внутренний голос и воспоминания о голосе друга. Показано, что у тех, кто слышит голоса, в этих зонах активность либо снижена, либо аномальна. Эти неврологические открытия будут полезны исследователям при разработке лечения для тех людей, чья система внутренней речи нуждается в дополнительной настройке.
Опасная тишина
Вербальные галлюцинации часто приводят людей к потере реальности. У здоровых людей внутренняя речь играет противоположную роль: она подтверждает, кто мы и что чувствуем. Наиболее важная и самая труднодоступная для экспериментального исследования задача внутренней речи — сохранение чувства собственного «я». Каждый день наше сознание пишет и редактирует текущую историю нашей жизни. Мы зависим от непрерывного потока простых тихих мыслей: «все хорошо, день начался»; «стоит взять зонтик»: «это напомнило мне о...», — который сохраняет нашу личность как разумное, обладающее сознанием существо, имеющее прошлое и будущее.
Писательница и политическая активистка Хелен Келлер (Helen Keller), в раннем детстве лишившаяся зрения и слуха, рассказывает, что до того, как она освои-ла язык, у нее не было самосознания: «До появления учительницы я не знала, кто я. Жила в мире, который миром не был... Когда же поняла значение "я” и "мне” и поняла, что существую, то начала думать. Тогда у меня впервые появилось сознание».
Психолог Ален Морин (Alain Morin) из Университета Маунт-Ройал в Калгари использует такие рассказы, чтобы обосновать свою теорию, что внутренняя речь — «одно из важнейших средств самосознания, и она настолько важна, что ее потеря вызовет серьезные нарушения». Один из недавних и наиболее острых случаев такого нарушения — история нейроанатома Джил Болт Тейлор (Jill Bolte Taylor).
В 1996 г., пока 37-летняя Джил спала, у нее в мозге лопнул кровеносный сосуд. Она проснулась из-за пульсирующей боли за левым глазом. В то утро она потеряла способность ходить и говорить и забыла многое в своей жизни. У нее в голове образовался сгусток крови размером с мяч для гольфа и перекрыл поступление кислорода к зонам Брока и Вернике. В результате инсульта Тейлор временно потеряла большую часть способности мысленно разговаривать с собой и, похоже, вместе с ней и большую часть самосознания. Были моменты, когда внутренний голос исчезал и в голове воцарялась полная тишина. Она пишет: «Эти тихие голоса в моем мозге, которые обычно держали меня в курсе моего отношения к миру, чудесным образом пропали. И вместе с ними испарились мои воспоминания о прошлом и мечты о будущем».
Знакомство с такими впечатлениями позволяет высказать увлекательнейшую идею, что наше самосознание— сложная иллюзия, которая поддерживается нашей непрерывной внутренней болтовней. Когда внутренний голос замолкает, мы перестаем существовать. Если это действительно так, то нам всем следовало бы уравновешивать нашу эгоцентричность немного большим количеством смирения и юмора. Рассказывая о пережитых испытаниях, Джил говорит: «Джил Болт Тейлор умерла тогда. У меня не было ее воспоминаний, предпочтений и антипатий, ее образования, злости, любви, отношений. Теперь я и наполовину не воспринимаю Джил Болт Тейлор настолько всерьез, как раньше».
 Дзебак Владимир
РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ
Дзебак Владимир
РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ